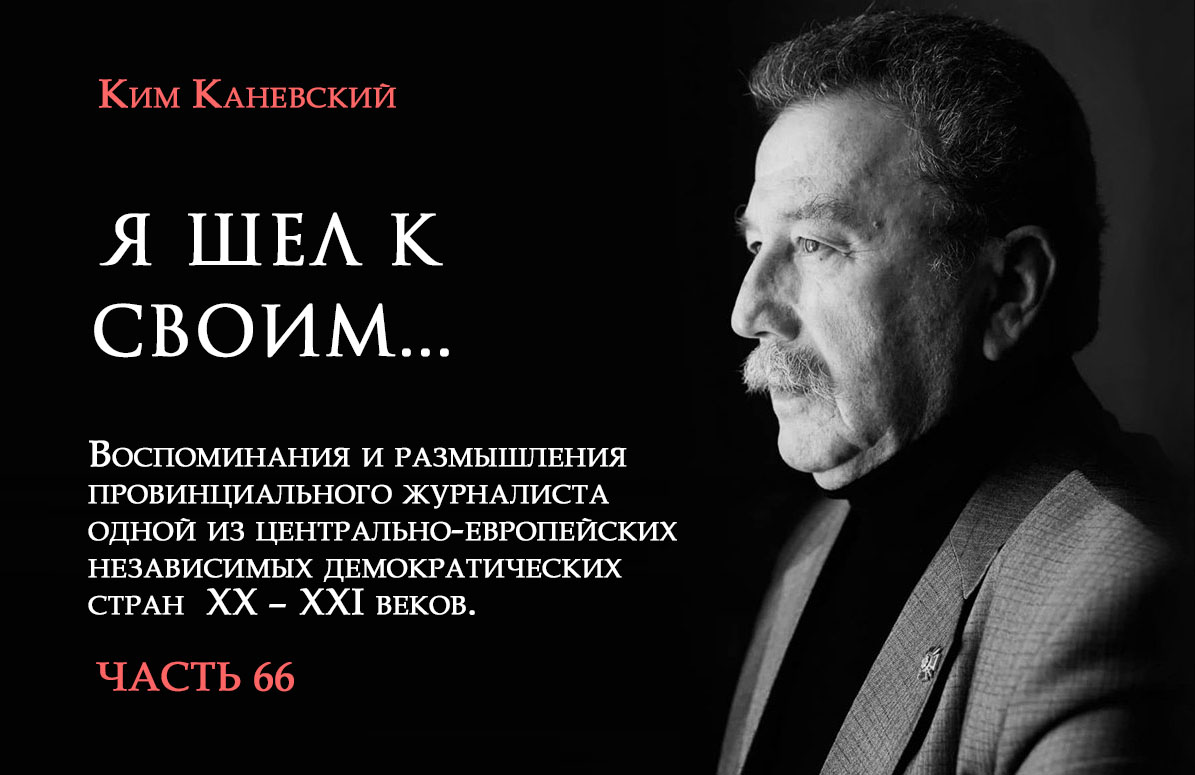В ТРЁХ КНИГАХ.
Книга вторая: «ВСЛУХ ПРО СЕБЯ…»
(Продолжение. Начало: «Перед романом». Книга первая: «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», «9», «10», «11», «12», «13», «14», «15», «16», «17,», «18», «19», «20», «21», «22», «23», «24», «25», «26», «27», «28», «29», «30», «31», «32», «33», «34», «35», «36», «37», «38», «39», «40», «41», «42», «43», «44», «45», «46», «47», «48», «49», «50» Книга вторая: «51», «52», «53», «54», «55», «56», «57», «58», «59», «60», «61», «62», «63», «64», «65»)
68.
…Странички самой поездки теперь тоже листает ветерок. И тоже довольно быстро. А ведь наверняка дорога была нетусклой. Подумать только – хлопец впервые в жизни так отдалялся от своего мирка. Да, разного, уже неуютного и даже нередко — враждебного, но своего, обжитого до последнего уголка. И вот – дорога дальняя. Что зацепилось за память по пути? Перед уходом на столе в пустой квартире моя записка об отъезде – хоть вполне можно было отправляться и без неё. Видимо, я тогда всё ещё не усвоил мысль о своей необязательности в том, что называется обычно семьёй. На перроне знаменитого вокзала, разбомблённого вдребезги за пять лет до моего рождения и новорождённого десять лет назад, о лишних слезах говорить нечего — проводов не было вообще никаких. А что было? Покупка пирожков с горохом и повидлом на дорожку. И газет в модерновом киоске «Союзпечати», никак не вписывающимся в помпезный сталинский ампир вокзальной архитектуры. На месте привычно встречавшего-провожавшего поезда бюста генералиссимуса уже стоял его алебастровый учитель. Незабываем попыхивающий тяжеловоз-паровоз с огромным тамбуром и ближай к ним жесткий бесплацкартный вагон. Да-да, не тепловоз ТЭП-10, не дизель и не латыш «Ригасвагон», о которых в те годы много писали, как о новинке – именно паровоз. Это впечатляло. В вагоне утраивались во множестве незнакомые люди – впрочем, почти все симпатичные. Может быть, именно потому, что незнакомцы. Кажется, помню тревожное, но сладкое чувство отъезда, всё большего отдаления от случившегося этим летом и до него. Задрёмывал, но сна не было. Было нечто в этом роде, полусон — виделся какой-то туннель туда, в неведомую туристскую жизнь, темень, метроном колёс и красота за окнами, как в метро, в котором я ещё никогда не был. Возвращение в явь раздвигало пространство до всесоюзного и мирового масштаба чтением газет. За окном как-то быстро замелькала-промелькнула Молдова, потом опять пошла Украина. Львов. А жирные от пирожков и типографской краски газеты кратенько разъясняли суть Карибского кризиса и миролюбивой политики ССССР. Несколько подробнее анализировались проблематика и противоречия стран капитализма, резко и очевидно контрастировавшие с нашими успехами в экономике, науке-технике, культуре-искусстве, промышленности и сельском хозяйстве. В СССР всё шло к значительному перевыполнению семилетнего плана. Что было весьма приятно. Конечно, попадались публикации о чуждых нам явлениях в культуре и даже идеологии. Разумеется, они никак не связывались с сутью текущей социальной формации – всякому было ясно, что это родимые пятна царизма-капитализма. Ну, и растленное влияние Запада. Из чего как бы само собой настоятельно требовались активность гражданских позиций и верность заветам Октября. В этом смысле доставалось творческой интеллигенции. Что-то писалось, помнится, о каком-то упадничестве, об идейной расслабленности. О меркантилизме.
В рубрике «Свободу Африке!» поминалась Гана (помните, у Галича:«Как про Гану – все в буфет, за сардельками…»). Немного огорчила информация петитом в «Комсомолке» о покушении на президента Ганы с замысловатым именем Кваме Нкруму – сразу и не выговоришь. В деревне Кулунгугу (час от часу не легче) он встречался со школьниками. И в него бросили бомбу. Сообщалось, что ранены были пятьдесят шесть человек, один школьник убит. Но сам президент, слава Богу, не пострадал. Примерно тогда же противники свободы Африки покусились на жизнь другого президента – генерала Шарля де Голя, способствовавшего деколонизации. Тоже перебили кучу народу. И опять-таки президент не пострадал.
Полуденная дрёма не давала сосредоточиться на чтении о событиях в мире. Но и уснуть как следует, не получалось. Помнится, странная статья в «Литературке» обозревала смерти выдающихся землян в этом году. Он, так выходило, запомнится человечеству из-за ухода Огюста Пикара, швейцарского исследователя, физика и изобретателя стратостата и батискафа (значилось – «Батискар»). Дольше текущего года не жилось и Герману Гессе, немецкому литератору, получившему Нобелевскую премию в год моего рождения на свет. Подумалось, надо бы почитать. Помер и один из создателей современной физики, земляк принца Гамлета Нильс Хенрик Давид Бор. О нём мне рассказывал там, на братской недавней даче, студент Гриша. Даже читал странные какие-то стишки «Атом, который построил Нильс Бор», пародировавшие английские детские стихи «Дом, который построил Джон». Или… Джек? Нет, не помню. И ещё преставился в нашем году учёный Эмиль Артин: было сказано – немецкий и американский математик. И я не понял – немец или американец? К тому же подчёркивалось, что он – армянин по происхождению.
Чему в целом посвящалась эта публикация, я так и не сообразил, поскольку читать её сразу начал с середины и слегка укачался задолго до резюме. И опять мерещились туннель и станции метро, виденные в кино. На одном из пролётов элементарно и оптимально захотелось жрать. И оказалось, что пирожки с горохом прекрасно сочетаются с точно такими же пирожками с повидлом. А размышления пошли на тему поворотов судьбы. В смысле провала, обвала, изгнания из дачного рая, обрекшего на отпускное прозябание в нелюбящем-недружелюбном родном доме (ну, как есть «Дом, где разбиваются сердца» по Бернарду Шоу) и вдруг — Наташа, свет путёвки в конце туннеля! Почему не изумлялся такому повороту судьбы? Ведь ещё только что ею был определён человечком лишним-ненужным. А вот поди ж ты: востребован и награждён. Ну, то есть, сердце радовалось, конечно. Но вполне умеренно, вроде знало, что приблизительно так всё и должно было быть. И теперь он предавался размышлениям об этой странности. Да, завет древних для него был уже давненько непреложен: познавая мир, познай себя. Когда-то в журнале «Знание – сила» он споткнулся об эту фразу. Чью? Не то Сократа, не то Аристотеля. Вроде как она была начертана в Дельфийском храме и часто фигурировала в их рассуждениях. Моё познание мира и себя длилось уже шестнадцатый год. И случившееся уже не впервые прокручивало ленту о подобном. Почему-то я нисколько не сомневался в самих по себе своей неслучайности в мире и нужности ему. Но оно присутствовало очень долго и весьма основательно. Откуда взялось? Бог весть. Вероятно, этот настрой связан и с тем, что значительная часть окружающих вообще явно не предавались таким рассуждениям. Родились и живём – и слава богу. Значит, так нужно. Но ощущение своей ненужности, пока всё ещё смутное, всё более охлаждало диафрагму. На дачу любимого брата потащился из-за ненужности дома. Оттуда фактически выперли по той же причине. Бросить школу после восьмого класса не помешал никто – аналогично. Да и отпуск на фабрике дали, в общем-то, за ненадобностью. Я ведь не собирался и не хотел. Но начальник цеха с прямотой римлянина отрезал: «А кого я сейчас отпущу? Они мне план дают, а ты…». Где дворовая команда, где Минкина и Володька? О папе-маме-сестре речи нет. Никому не нужен? Похоже было на то. Но город! Но страна! Но комсомол! Но поэзия и графика! Но – Наташа? Но – путёвка в Мукачево? Если моя ненужность закономерна, то как прикажете это понимать?
Или кому-то (чему-то) всё-таки нужен? Кому-то (чему-то) интересен? Небезразличен? Наобум тасовал колоду памяти. Вот малый был, от тифа умирал. Я вам уже докладывал: все говорили – умру, сам слышал. Уже не лечили, говорили – поздно. Ан не умер. Свыше, что ли, поинтересовались? Или вот, как-то сидел на балконе, упёрся через ограду ножками в ящик с землёй и цветами. А ящик дубовый, тяжеленный, с наружной стороны балкона прикручен проволокой к решетке. И похолодело в груди: ящик ушел из под ног. Туда, то есть, на улицу. Не сразу решился глянуть вниз. Картина: лежит, развалился, земля вытекает. А вокруг – толпа. Аккурат, шли трудящиеся с заводов и фабрик. И как это никого не поубивало… Или ещё: горел на математике, как швед, помните? Ничего не могу. Обречён. И вдруг Гагарин выручил, полетел в космос. И всем стало уже не до меня – обошлось без переэкзаменовки. Что-с? По Гамлету – силы небесные? Но ведь я от рождества своего был присяжным материалистом. И, как выразился классик, не мог понять тех, кто симпатизировал одновременно и Дарвину, и Троице. Теперь думается, вероятно, многое определялось противоречивостью восприятия мира и в нём самого себя. Ну, относительно мира уже кое-что сказано и наверняка буде сказано ещё. От читателя нонича у меня секретов нет. Ну, почти нет. Просто обо всём сразу не расскажешь. Да не всё и ясно до сих пор. А вот самовосприятие…
Экранизаторы чеховской «Дуэли» Иосифа Хейфица назвали фильм свой так: «Плохой хороший человек». Ах, мне бы тогда золотой сей ключик! Но это вышло много позднее, уже к середине семидесятых. В те же времена «Морального кодекса строителя коммунизма» это было бы абсурдом. Вообще говоря, мне всегда было чем себя подбодрить, на чём самоутвердиться и за что относиться к себе неплохо. Даже хорошо. Но основа эта была непрочной, поскольку со школьных лет отношение мира и его полпредов ко мне было очень разным. И всякий негатив так или иначе принимался мною во внимание. Таким чином – и хорошее, и плохое отношение к себе выходило логичным. Кроме, конечно, самых глупых и мерзких. И когда везло, воспринималось это как бы абсолютно закономерно. Хороший ведь человек, всё логично, так и должно быть. Вот особенно и не радовался. А когда наоборот — то и наоборот. Но эти размышления пришли много позднее. А тогда как-то не чрезмерно восхищался заооконным пейзажем..
И приятно, и смутно-путанно было в голове и на сердце. Да, сложившееся-случившееся оставалось позади, всё дальше и дальше. И от этого есть куда деться. Очень просто: туда, вперёд, по ходу движения поезда, где новый поворот, новые страницы. Новые люди. Теплело и от газет, и от туристской путёвки, где черным по белому значилось: « В 1960-е годы турбазы в СССР стали популярным видом отдыха, особенно среди рабочих и служащих. Они предлагают заслуженный и доступный отдых в живописных местах, часто финансируемый профсоюзами. Среди популярных направлений Крым, Кавказ, Прибалтика и Карпаты, а также базы отдыха в окрестностях крупных городов…»
Господибожемой, я буду в горах! Как мой брат, облазивший с друзьями Крым, Кавказ и Урал – рассказы о чём пленяли в детстве немногим меньше, чем воспоминания фронтовиков о боях и походах. А Лермонтов-Печорин! А княжна Мэри! А Пушкин, дошедший до Арзрума! А толстовский юнкер Оленин Дмитрий Андреич! А встречи-повроты! Я ведь там многое нарисую и напишу, ясное дело. Но ведь возврат неизбежен. И что потом? Странности того мирка, который всё ещё называется семьёй, и живописный цех фабрики «Трудпобут», в котором занимаются чем угодно, кроме живописи. И где даже великолепные мастера-оформители почему-то тщательно поддерживают атмосферу местечкового скабрёзного жлобства. Там уже нет и, видать, не будет Минкиной и Свиридова Володи. Во всяком случае, в прежней ипостаси. Хотя есть комсомол, которому я был на дух не нужен в школе и которому оказался в самый раз на фабрике. И там есть Наташа-мечта, с которой на сей раз так странно встретились и расстались. Там есть чертовщина, в которую предстоит вернуться. Вот и не гляделось в окно, вот и читалась газета. Вот и радовалась душа от сообщений о выходе на орбиту спутника Земли космического корабля «Восток-3» с Андрианом Николаевым. Мало того, на следующий же день к нему там присоединился «Восток-4» с Павлом Поповичем. Вот это – да! Ай, да мы, сукины дети! В несколько ином, но всё же мажорном роде принялось сообщение «Комсомолки» о нацисте Адольфе Эйхмане, который повинен лично в уничтожении сотен тысяч граждан и в эти дни казнён по приговору израильского суда. Для чего спецслужбой этого государства выкраден в Латинской Америке. Информация была досадно лаконичной, но фантазия восполнила эту нишу, приносило картинки феноменальной операции. И это было ярче, чем пляска заоконных пейзажей. Теперь, когда пишутся эти строки, кривит рот ирония – а что было бы, если тогда прочёл, скажем, в «Комсомолке» об аресте в Москве полковника советской разведки Пеньковского, много лет работавшего и у нас, и за границей сразу на две иностранные спецслужбы! Ведь и слежка за ним, и его арест-следствие-суд проистекали именно тогда, когда под мерный перестук колёс я смотрел на мир сквозь газеты. Но о подобных публикациях, как теперь ясно, тогда не могло быть и речи: уже задержанный, он как бы оставался «их» агентом и передавал за кордон дезинформацию уже в интересах СССР. Вот уж во истину – чудны дела твои, Господи! И какие чудеса окружали меня и прочих простых смертных граждан зримо и незримо в том шестьдесят втором…
Постепенно в сознании стал проступать автопортрет-диптих. Что-с? Нелюбим, неинтересен? Непривлекателен? Так ведь худенький, неухоженный. Не акселерат. Одет не по моде. Нищий и, почитай, бездомный. А жизнь всё больше уходила вперёд, туда, к Европе. Так что, всё вроде бы логично, хоть и обидно. А жизнь на свои трудовые? А Наташа? А ВЛКСМ и наш райком? А турпутёвка? Так ведь в СССР живём. Так ведь талантлив, умён, начитан. Художник, поэт, писатель. Мыслитель. Философ. Редкий, словом, человечек. Выходит, и это всё логично и правильно. Так было долго-долго: тоска невнимания и одиночества воспринималась, как нечто закономерное. Равно и радость удачи и взлёта. Я был вроде как не один – нас было двое. Своего рода раздвоение личности. Плохой хороший человек. И тогда удалялся от Одессы в сторону Карпат умница, политикан, поэт, художник и вообще очень интересный человечек, за что, наконец, обласкан судьбой. Пока, во всяком случае. Кстати, о раздвоении: всякий раз и плюс, и минус казались – навсегда…
Пересадка на автобус. И кажется, почти сразу же оно, Мукачево, которое я так и не разглядел толком. Уже там, на турбазе, на занудной обязательной лекции выяснилось, что это старинный, средневековый и притом вполне современный город, который… эт цетера, эт цетера. А тогда, при всём заведомом романтизме туристской сферы, канцелярия базы оказалась самой обыкновенной, совучрежденческой, как бухгалтерия в «Трудпобуте». Слегка повозившись из-за отсутствия паспорта (по возрасту имелось только свидетельство о рождении), меня оформили и определили на быт во многокроватной шатровой палатке, где ангельски провёл две ночи – днём шло знакомство с группой и руководителем, обмен автобиографиями, изучением маршрута и походных песен. Тут же выяснились две вещи: первое – я младше всех намного. И второе – хорошо знаю с детства раннего не только предложенные инструктором туристские песни, но и многие другие, которых не знал он сам. Народные эти произведения записывались уже под мою диктовку и разучивались под моим чутким руководством. Руководитель и аудитория охотно выслушали и детские мои воспоминания о братьях Абалаковых, о моём старшем брате и его друзьях – горных туристах и послевоенных одесских первоальпинистах общества «Труд». Было, опять-таки, приятно, хоть и делал я вид, что происходящее разумеется как бы само собой. И ничего особенного в происходящем нет. А что? Хороший же человек. Нужный.
Глава группы нашей Борис Сливка (смотри, запомнил!), оказался студентом геолого-географического факультета Ужгородского университета, кандидатом в мастера спорта и красивым молодым мужчиной – хоть и отчаянно картавым. Мне он понравился сразу. И, как выяснилось чуть позднее, уже в походе, я ему тоже. Вообще вышло так, что сосьете сразу же, с первого знакомства, обратило внимание на лирического моего героя. Борис как бы взял надо мной шефство. Объявил о необходимости завести журнал похода, за основу приняли мой рисовальный альбом. Это, мол, старая традиция, журнал потом присоединится навсегда к себе подобным из других групп в гостиной базы. Какой-никакой оформитель-шрифтовик, я тут же на обложке красивенько вывел заголовок, мною же и предложенный: «ТУРЖУР». Одобренное Сливкой (с учётом особенностей его речи это слово он как бы мурлыкал), издание дополнилось подзаголовком – «Туристский журнал группы номер такой-то». Нет, номер не запомнил. И некая молодая красивая особа тут же мне объяснила, что «Тужур» — есть такое французское слово, которое означает «Всегда» или «Навсегда». Сказала: «Ля мур тужур», значит – любовь навсегда. И красиво подмигнула. И я тут же на развороте набросал её дружеский шарж, признанный похожим, ещё не ведая, что это – тоже поворот. Словом, я оказался востребованным. Не отсюда ли особая прелесть тех коллективных завтраков, обедов и ужинов, хотя прелестны они были и сами по себе. А тем более за ними хорошенько разглядел просветившую меня насчет вечной любви по-француски Светлану – студентку ПИСИ, Полтавского Инженерно-Строительного Института. Ну, как есть Брижит Бардо, только-только ставшая известной простым смертным советским кинозрителям.
В порядке дня были и лекции в специальном зале, в основном – о туризме в нашей стране. И выяснилось, зародился он именно как наш, советский, ещё чуть ли не с семнадцатого года. И великим его организатором стала верная спутница Ленина Надежда Константиновна Крупская, будучи замнаркомпроса. Было, оказывается, даже такое всероссийское, а потом и Всесоюзное ОПТ – общество пролетарского туризма. Кстати, закрыли его в 1937 году. Сами понимаете… Да, что-то там говорилось и о нашем «Интуристе», но это уже почему-то было менее интересно. Вероятно, поскольку заграница была бесконечно далека. И мне, в числе других высказываний Остапа Бендера, с детства нравился его тезис: «Заграница – это миф о загробной жизни. Кто туда попадает – обратно не возвращается!». Но посиделки эти мне не казались занудными – тем паче, чисто случайно на лекциях сидели мы рядом с полтавской Брижит Бордо. Я ловил докладчиков на чепухе, много ёрничал по лекционному поводу. И она охотно отвечала тем же. Её звали Светлана. Поди, забудь: Света Строговец. И впрямь – очень светлая была гражданка…
На третье утро по здешней традиции население базы, инструкторы, сотрудники и другие группы туристов, собрались на плацу под высоченным флагштоком, для торжественных проводов в поход нашей группы – напутственными речами, напоминанием о дисциплине (запомнилось, кстати, на всю жизнь: «Первый закон туриста – за тобой идут товарищи!») и пожеланием лёгких рюкзаков. По команде некоего начальника мы равнялись, смирнялись, поворачивались через правое плечо и под «Прощание славянки» маршировали на выход из базы….
(Продолжение следует)
Подписывайтесь на наши ресурсы:
Facebook: www.facebook.com/odhislit/
Telegram канал: https://t.me/lnvistnik
Почта редакции: info@lnvistnik.com.ua