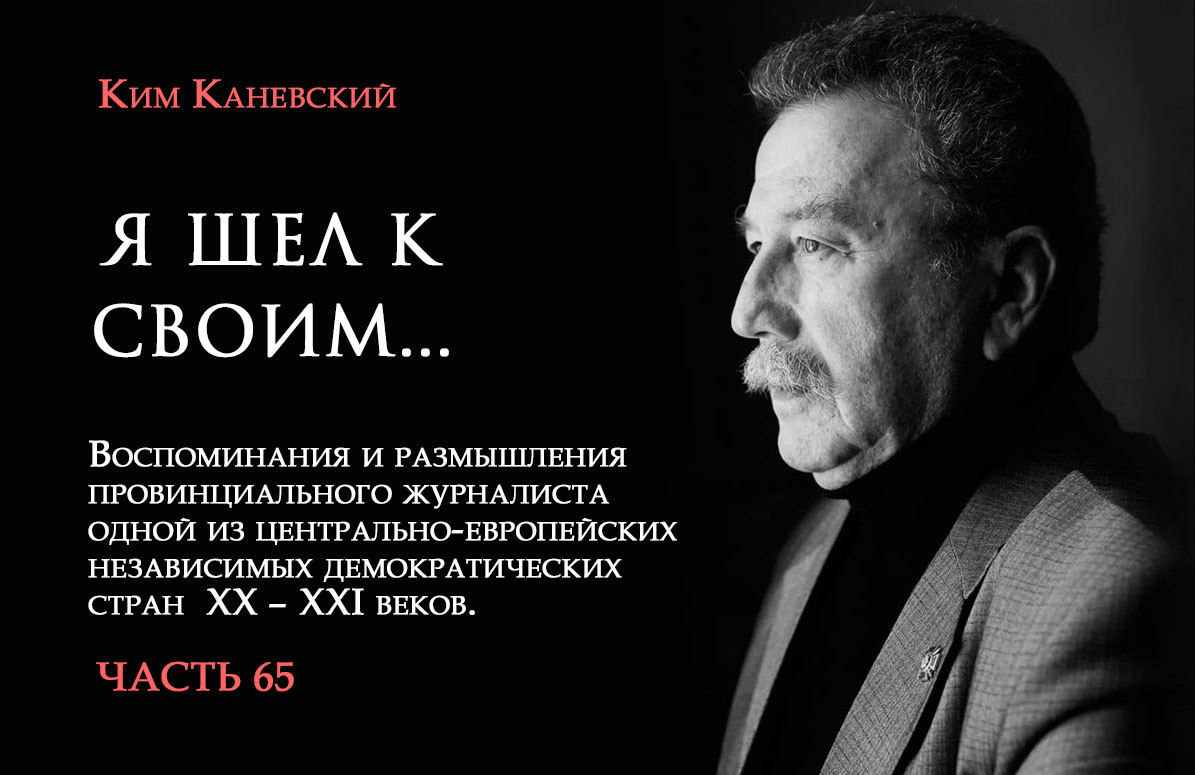В ТРЁХ КНИГАХ.
Книга вторая: «ВСЛУХ ПРО СЕБЯ…»
(Продолжение. Начало: «Перед романом». Книга первая: «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», «9», «10», «11», «12», «13», «14», «15», «16», «17,», «18», «19», «20», «21», «22», «23», «24», «25», «26», «27», «28», «29», «30», «31», «32», «33», «34», «35», «36», «37», «38», «39», «40», «41», «42», «43», «44», «45», «46», «47», «48», «49», «50» Книга вторая: «51», «52», «53», «54», «55», «56», «57», «58», «59», «60», «61», «62», «63», «64»)
67.
…Сейчас, когда пишу всё это с натуры и по памяти, странички последней почему-то листаются много быстрее предыдущих. Будто рукописную памятную книгу оставил я раскрытой на солнечном подоконнике в той комнате – с видом на Большую Арнаутскую. Которая пока всё ещё Чкалова. И летний одесский бриз треплет странички с пятого на десятое, не давая вчитываться. А ведь подробности весьма существенны для лирического моего героя. А может быть, и для других – читателей, коль скоро такие вообще имеются в природе. И для города, который я тогда попросту считал своим. А… писать, так писать: для страны и мира; здесь ведь запечатлён ещё один крутой поворот их разноэтажных и разномасштабных судеб – во множестве деталей. Кстати, уж не самый ли существенный поворот в моей жизни? Пожалуй. Кто знает, не шарахни меня по сердцу нежеланный отъезд (да что там – изгнание с той чудесной дачи) в город, не окажись в отпускной невесёлой пустоте, перегретой недобрым солнышком Одессы и не вылети на отпускную обочину. Вписался бы в предстоящий и совершенно неожиданный изгиб той дороги? Да и свои личные беды воспринимались не столь болезненно, если бы тогда виделись в отечественном и мировом контексте. Господибожемой, какой мир окружал одинокого этого пешехода! Приблизительно так воскликнул один его великий земляк, перед смертью оглядываясь назад и по сторонам. И невесело добавил: «А мне тогда казалось, что самое нехорошее – держать локти на скатерти стола…»
Итак, он, который я, вышел из сто двадцать третьего номера, повернул налево. И медленно перемещался без определённых намерений. На хорошо известном с детства пути впервые обратил внимание на некоторые предметы и явления. Оказалось, у нас модернизированы многие киоски. Например, будки «Союзпечати». Они приятно освежали урбанистику – на смену привычных древофанерных будок, наскоро крашенных суриком, в духе времени появились американизированные конструкции из алюминия, стекла и пластмассы. Место около них по-прежнему было свято – никогда не пустовало. Граждане энергично покупали здесь свежие журналы, газеты, почтовые конверты, а заодно — сувенирные значки и открытки с портретами кинозвёзд – отечественных, разумеется. Производство этого товара ширпотреба гарантировал сбытом статус самой читающей страны в Мире, исконным пристрастием южан к самоукрашению и всеобщим помешательством на кино – из всех искусств, по Ленину, для нас важнейшим. Кроме того, исконный высокотемпературный и совершенно искренний интерес наших горожан к официальной информации всегда гармонично сочетался с полнейшим к ней недоверием. От дискомфорта этого противоречия одесситы обычно уходили сопоставительным анализом газетных истин в последней инстанции с базарными слухами и сплетнями. А ведь всегда было о чем почитать и между строчками и абзацами, что считалось издавна особым одесским шиком. Даже сотрясённые революцией, гражданской и интервенцией, тридцатыми и зверской недавней мировой, горожане наши сохранили во всей неприкосновенности эту методу. Что было ощутимо и в шестидесятые, воспеваемые автором в настоящий момент.
Уж как они пронюхали тогда же, в то лето, что в Новочеркасске Ростовской области советские пули полетели в советских же граждан – рабочих вагоностроительного завода имени товарища Будённого, героя гражданской войны. Об этих «Беспорядках» очень вскользь, коротко и в самых общих чертах однажды написала «Правда». О чём я уже говорил, напомню: работяги бросили работу, подняли бузу как бы из-за роста цен на мясо-молоко-масло. И на хлеб. О чём недвусмысленно, хотя и сдержанно, также сообщила пресса, опубликовав соответствующее постановление совмина. Скорее всего, взорвал работяг комментарий к постанове, в котором подчёркивалось: повышение цен последовало именно по требованию трудящихся. Сегодня известно, что успокаивали их конно, людно и оружно милиция, армия и госбезопасность. И о чём я и мои сограждане тогда понятия, конечно, не имели. Даже сейчас, когда все всё знают, дело тёмное — кто затеял, подогрел и сорганизовал, кто заварил митинговую кашу и повёл безоружных на приступ горкома партии и РОВД. Считается, что пять человек убили сразу же и сначала, ещё до двадцати при разгоне толпы. Семьдесят огнестрельных ранений разной степени. В том августе-62 там же народный наш суд семерых приговорил к смертной казни через расстрел, более ста пошли по этапу. От двух до пятнадцати лет. Кстати, в конце девяностых годов все осуждённые были реабилитированы. Расстрелянных это, скорее всего, мало утешило, но родне компенсировали конфискованное имущество. А виновными были названы местные и центральные партруководители, что тоже носило более символический характер – к моменту торжества истины они умерли.
Да, а розничные цены так и не снизились. Зато снизилась покупательская способность рубля и зарплата: по рабочим местам предприятий зашагали ненавистные работягам нормировщицы с секундомерами. И всесоюзно как бы сами собой пересмотрелись нормы выработки. Но уже никто и нигде не затевал протестных беспорядков. Дорогой урок пошел впрок. А тут и Карибский кризис, призрак атомного гриба над головами. О чём мы знали немного больше, но всё же почти ничего. Кроме того, что в воздухе пахло военной грозой. И одесситы толпились у соответствующих киосков, взглядом дыры протирали в газетных сообщениях, не верили ни единому слову и проклинали американцев на Соборке. Почему это всё на меня лично производило куда меньшее впечатление, чем ретирада с той дачи? Бог весть. Вероятно, срабатывала привычка к мысли-чувству невозможности новой войны – да-с, вторая мировая с детства была привычна, как самая последняя в истории. В том смысле, что уже больше никогда никакой войны не будет. К чему это я? Всё к тому же: мир маленького человека в большом мире и его событиях. О некоторых из них он знал (или думал, что знал), о других догадывался. Об иных понятия не имел. Но все они так или иначе влияли на него и иже с ним. С авторской моей дистанции это совершенно очевидно – да будет ясно и вам, читатель дорогой.
Да-с, война. Между прочим, не забыть бы: в то замечательное во всех отношениях время для меня и моих сограждан терминологический оборот «Вторая мировая война» был непопулярен. Да что там – просто почти не применим. Зато «Великая Отечественная» присутствовал повсеместно. И в числе дворовых детей Победы, принявших от меня солдатские-сержантские-офицерские звания, был я самым настоящим генералом. Привычка к чему очень долго помогала самоутверждаться, а со временем оказалась вредной. Но иных игр (напомню), окромя войны, мы тогда не знали. И мысль о невозможности новой войны весьма огорчала. То есть – как «Почему»? У старших – ордена, погоны, ранения. Биографии. Воспоминания – заслушаешься. И ничего этого для нас судьба не припасла. Почему особого внимания мы не придавали тогда корейской войне, сводки о которой внимательно изучались дома? Бог весть. Может быть – очень далеко? Не было и речи об индо-пакистанском инциденте. Конечно, нам ничего не было известно о приближении… китайско-индийской войны, которой суждено было разразиться только осенью. И мне, сопливому политикану, ещё предстояло внимательно наблюдать за той бойней, убившей и покалечившей там, вдали, сотни тысяч землян. И радоваться полной победе наших друзей-китайцев. Тех самых, которые ещё не изготовили пули для советских бойцов острова Даманский, завизжавших в конце оттепельных наших шестидесятых. Господи, кому из нас это могло явиться в голову, если даже Генштаб, Главразведупр, Главполитупр и Минобороны СССР о подобном не догадывались. Что возьмёшь с дворового генерала. Но радовалось сердечко информации о вручении академику Льву Ландау Нобелевской премии по физике. Сказано было: «За пионерские (!) работы в области конденсированного состояния жидкого гелия. Ну, или что-то в этом роде. Хотя по Одессе ходили слухи, что торжественный акт вручения этой премии состоялся в больничной палате, где лауреат уже почти пришел в себя после автокатастрофы – великие наши хирурги собрали его буквально по кусочкам. И вроде бы при ответной речи академик поглядел на золотую медаль и буркнул под нос: «Обделаться можно!» (выразился он, конечно, грубее). Русскоязычные присутствующие расхохотались. Иностранцы попросили перевести. И отсюда пошло: «Как говорил академик Ландау…» — дальше по тексту.
Генерал-майор с детства (вы помните?), он (Я) и в шестидесятых не прерывал эту игру, ещё не посвященный в компенсационную теорию функционального воображения. До его встречи с идеями Эвальда Ильенкова оставались годы и годы. Но что-то не сдувало с плеч воображаемых парчовых погон, видимых только мне и моей команде. Затянувшееся детство? Незрелость? Или неистребимая тяга к свободе и предощущение её возможности только в воображении? Пожалуй. Но интерес к политике и вообще к событиям мира были истинно генеральские. Таковой была и уверенность в том, что где-то очень высоко, на самом верху самой лучшей в мире страны, компетентнейшие генералы вершат наши судьбы и информируют таких, как я, о самом главном и существенном. Конечно, и тогдашние компетентные наши инстанции (о ненаших нечего и толковать), располагали другими информациями о происходящем, могущие крайне заинтересовать моего негероического героя. Но до статуса товаров широкого потребления этим материалам предстояло томиться под определенными грифами спецхрана.
Кстати, о генералах! Где, в какой газете ему было прочесть о том, что во время той невесёлой прогулки по Преображенской в тюрьме нашей сидит уже десять лет совсем другой генерал, настоящий. Разведчик. Да-да, Судоплатов. Вроде как и заговорщик, и контра, и шпион. Безусловно, мальчику интересно было бы почитать о том, что в истории советской разведки и другие генералы и высшие офицеры оказывались иностранными шпионами. Это – не о трёх из пяти первых советских маршалов, арестованных, судимых и расстрелянных за шпионаж и оправданных посмертно ещё в 50-е. Он ничего не знал о своих современниках, двух вещих Олегах — Пеньковском и Гордиевском. И что в те летние дни и часы его бед первого уже пасут сыщики соответствующего департамента, как иностранного шпиона. А второму нечто подобное ещё предстоит. И про советского полковника Абеля-Фишера не ведал, а ведь именно тогда его спасли от электрического стула и обменяли на американского полковника-шпиона, попавшегося над Уралом и томящегося во Владимирском централе. В каком киоске лирический мой герой мог получить газету с информацией о советском генерал-майоре Полякове, который в оттепельный год полёта Гагарина взял да и связался с иностранной спецслужбой. И через год, во время бесхитростной моей прогулки, передал иностранной агентуре секретнейшие советские документы. Нет-с, тогда на это не хватало фантазии даже у одесских политиканов с Соборки. И нечто подобное можно было почерпнуть только из зарубежного вещания. Чем он не занимался. Да и всё едино – не поверил бы…
А чтение доступных и убедительных информаций оставалось неизменно его увлечением. И в какой-то степени — оттяжным пластырем, смягчающим боль неожиданных неудач. Ясно было: за пределами его микрокосма происходит очень много всего куда более существенного, чем личные беды-печали. Да-с, вышло так, что счастливо провести отпуск в обществе старшего и любимого брата, его странной жены, удивительной тёщи, нескольких приморских прелестниц и учёного ленинградца Гриши, так и не удалось. Уверенный почему-то (почемуууууу?!), в том, что мне там рады — и вдруг отправленный за скрипучую дачную калитку, академчас обратного пути скоротал горестным недоумением у трамвайного окна. Да и по приезду из-за этого фиаско не рисовалось и не сочинялось. Тем летом у нас во дворе на Большой Арнаутской было почему-то особенно пусто и грустно. Куда-то моя команда подевалась, генерал остался без войска. Кудахтанье мадамов содержательности не сгущало. Да и квартирный вакуум оставался неизменным. А почти весь отпуск был впереди. С братской той дачи притащилась за мной настроенческая кислятина, развеять которую пробовал культпоходом к своим любимым — в художественный, то есть, музей на Ольгиевскую. Логика была проста: там потоптаться среди родных-близких с детства картин, графических листов и скульптур не так одиноко. Но как-то не подумал о том, что пеший маршрут этот пролегает мимо Грековки. И едва добрёл до неё – под ложечкой сгустилось. Ах, художка! Дефиле мимо неё, чреватое несладкими воспоминаниями и возможностью некоторых встреч настроения не поднимало. Повернул на ходу по-флотски «Все вдруг» и поплёлся обратно по Преображенской. Куда? Да куда глаза глядят. Рысью, как-нибудь.
Глазел на немногих прохожих (день-то рабочий), попустительствовал случайным наблюдениям и мыслям. А улица долгая-долгая, из наших бесконечных. Да и не Преображенская была она никакая уже давным-давно, просто с детства моего счастливого так звали её дома. Преображуха, Преображурка. Преба. Говорили, потому что вела встарь мимо Соборки – площади со Спасо-Преображенским собором, рождённым за сто и снесенным за десять лет до моего рождения. Теперь же угловые и дворовые таблички облупленной эмали объявляли: «Ул. Советской армии». Я, конечно, знал, что по этому названию улица – моя ровесница, так была крещена в родимом сорок шестом. Как и многие иные в нашем городе, она и до того, и после меняла имена. Точнее, ей от имени народа и во имя его меняли их сменные обладатели соответствующих мандатов. Со вступления в Одессу Красной Армии в феврале 1920 года она стала улицей Троцкого. Того самого, который до революции в нашем городе учился и сидел в тюрьме, потом в Питере стал главой Петросовета, в руки которого перешла вся власть экс-империи осенью-17, первым в истории министром иностранных дел РСФСР эпохи Бреста и первым же военным министром республики труда. Мода терминологического новаторства назвала это так: наркомвоенмор и председатель Реввоенсовета. Как говорил другой тогдашний вождь – ужасно пахнет революцией. А через восемь лет, когда в ранге контрреволюционера и заклятого врага народа был снят со всех постов, сослан в Среднюю Азию и вообще изгнан из СССР – она стала улицей 10-летия Красной Армии. Размышления и о такой переменчивости фортуны помогали коротать долгую ту мою прогулку и отвлекать от упадничества. Господибожемой, какие кошки скребли на душе моего героя – рад был отвлечься на любую ерундистику…
Там и тогда я впервые обратил внимание на отличие Преображенской от всех остальных одесских улиц: оказывается, с самого рождения её левая сторона — чётные номера домов, а правая вся нечётная. Отчего, почему, по какому случаю? Между прочим, так до сих пор и не знаю. Да и какое это может иметь значение? Тогда ведь эта заметка явилась так, от нечего делать и с тоски. Таким чином запросто прошел сквозь Дерибасовскую, которую издавна принято считать самой знаменитой улицей Одессы. Где-то тут, вроде бы, жил в своём собственном дому некто Дерибас или Де Рибас Хосе, основатель Одессы и её первый градоначальник. Не избежала и эта улица перемены имен – побывала и Де Рибасовской, и Рибасовской, и Садовой. Да, и Гимназической (поговаривали, некогда здесь имелась коммерческая гимназия под патронатом самого Ришелье). На старинной гравюре Дерибабушку уродовала балка поперёк, в сторону Военной гавани. И улицу, как и некоторые другие, продолжал мост между Греческой и Ланжероновской. Но городской этот шрам был неглубок и его когда-то попросту засыпали. Весной-20 здесь торжественно укрепили таблички «Улица Лассаля». Если фамилия эта и была мне уже знакома, то только и исключительно благодаря мимолётной строчке Ильфа-Петрова. В «Двенадцати стульях» ясно сказано: приезжие в Москву «…Одесситы тащат с собой корзины и плоские коробки с копченой скумбрией. Им тоже известна лучшая улица на земле. Но это, конечно, не Крещатик, это улица Лассаля, бывшая Дерибасовская». Но при первой и дальнейших частых встречах с ильфопетровским феноменом об эти строчки я никогда не спотыкался – хотя почему-то и запомнились. Много позднее для себя выяснил: Лассаль этот никакого отношения к Одессе не имел и никогда здесь не был. А был он очень даже интеллигентом и аристократом духа, хотя и ближайшим сотрудником Маркса-Энгельса, философом и как бы теперь сказали, политологом. Ко всему прочему гегельянец и радикальный демократ, публицист и филолог, который прославился на адвокатском поприще – не будучи юристом. Без памяти влюблённый в пролетариат, тем не менее носил фраки, жабо и маникюр. И пал на дуэли от шпаги соперника в любви. Словом, тот ещё гусь. Но при чём тут Одесса…
Правда ли это жизни? Размышлял ли я подобным образом тогда, когда уныло плёлся куда ноги несут? Трудно утверждать. Да и в том ли дело. Но сейчас, реконструируя ту прогулку, так представляю читателю лирического своего героя – по праву правды искусства. Не такой он у меня человек, чтобы в подобной ситуации вообще ни о чём не думать. Шагая через самую знаменитую улицу города, он, рождённый на улице Чкалова, вполне мог думать и о том, что после гибели Валерия Чкалова в тридцать восьмом Дерибасовской присвоили именно его имя. Да-с, читатель мой бесценный, она была Чкалова тогда, когда бывшей и будущей родной моей Большой Арнаутской это и не снилось. Тем паче, судя по письмам, открыткам, телеграммам и вообще бумагам семейного архива, улица моя была одно время и довольно долго Леккерта. А Дерибасовской в сорок первом вернули привычное для одесситов имя румыны-оккупанты. И уже вроде бы – навсегда, хотя сами тут распоряжались до весны-44. Бывшую Екатерининскую улицу (на детско-юношеской моей памяти – Карла Маркса) они назвали именем некоего Михая Витязула. Преображуха стала – Маршала Ионеску. А проспект Кирова – вообще Короля Кароля. Неплохо, правда? Короля Кароля! Как говорится, простенько и со вкусом…
Ну, ладно, в конце концов, не в деталях дело; если это не выдумка автора — и впрямь наблюдения и мысли непутёвого моего лирического героя текли там и тогда подобным образом. Он наверняка подумал и об улице Иона Антонеску, и об улице Адольфа Гитлера, и ещё бог знает о каких переименованиях в его месторождении…
Правда, ещё бесконечно далёкий от своего головокружительного взлёта в семидесятые-восьмидесятые-девяностые века двадцатого и до своего же катастрофического приземления уже в четвёртой пятилетке нового века и тысячелетия, едва ли мог думать он о посмертном изгнании Карла Маркса с улицы Карла Маркса, Ленина – с улицы Ленина, Пушкина с улицы Пушкинской. Ну, и тому подобных метаморфозах местной топонимики. Скорее всего думал о скверне своего изгнании из дачного того рая. И о том, что более не видать ему тех красивых загорелых девчонок. И совершенно непонятно, каково теперь будет пространство между ним и любимым старшим братом. Да и вообще – куда теперь деваться до конца отпуска. Тоска, что тут толковать. При этой смете он заметил, что шагает всё медленнее. И вообще приставил ногу всё на той же Преображенской, у нового дома между Кирова и Чкалова. Вдруг подумал: если так пойдёт дальше, окажется перед своей экс-школой. А вот уж куда никак не тянуло. Оказалось, бесцельная та прогулка привела его к дому с булочной-автоматом на первом этаже. Да-да, к тому самому, почти весь двор какового занимал громоздкий неряшливый флигель — контора, бухгалтерия, отдел кадров и библиотека фабрики «Трудпобут». Ну, и тот самый Живописный цех, воспетый лично мною уже в предыдущих главах
От булочной, не смотря на ея американизацию и автоматизацию, пахло обыкновенно, как от любого хлебного магазина. И хлопец вспомнил о том, что сегодня ещё ничего не ел. А там, в пахучей прохладе застеклённых хлебо-булочных изделий столкнулся с Наташей. Невесёлая-задумчивая, она явно обрадовалась-оживилась, обняла моего героя и сунула ему в руку одну из двух булочек, купленных здесь же и только что. Оказывается, собиралась меня искать, есть срочнейшее дело. И он, который я, вдруг поймал себя на мысли – а не такая уж она красавица. Или подурнела за время разлуки? Или разлюбил? Впрочем, потащила его-меня Наташа в тот самый двор и особняк, к своему столу в символической библиотеке, за которым они уплели булочки и разговорились. И развернула Наташа передо мной чудесную картину – новый и весьма крутой поворот дороги. Оказалось, в месткоме фабрики «Трудпобут» горит туристская путёвка. Поездка на запад Украины, на турбазу в Мукачево. А оттуда – поход по Свидовецкому хребту, аж до самой Говерлы. Горы, реки, леса. Озёра. Всё оплачено. И что интересно – одолевшим маршрут полагается звание «Турист СССР» и соответствующий значок. Изображенный на обложке путёвки, он был отлично знаком мне с детства. У брата был такой. Очень красиво: компас со стрелкой, естественно, на север, палатка с откинутым пологом. И надпись «Турист СССР». Конечно, я и мечтать о таком не мог. И вот…
Да, Наташа мне радовалась – что было совершено очевидно. А я? В общем тоже. Но почему-то почувствовал себя как-то неловко. Отчего стал пристально разглядывать не Наташу, а значок на красивой обложке турпутёвки. И вдруг заметил: стрелка на изображенном компасе показывает… ну, не совсем на север. Куда-то между «N» и «О». Не понял! Всякий дурак знает: стрелка компаса всегда и почти всюду указывает строго на Nord. Положим, что почти. Стрелка компаса всегда направлена строго на географический Северный полюс, точные координаты какового — 90 градусов 00 минут 00 секунд северной широты. А долготы, никакой нет, ибо географический Северный полюс является местом схождения всех меридианов земного шара. Согласно школьного курса, географический полюс (Северный или Южный) — являются точками «входа» и «выхода», через них проходит воображаемая ось вращения Земли. Размышляя об этом совершенно не кстати, я не вслушивался в её вопросы или отвечал невпопад. Наташа, конечно, это заметила, тоже посерьёзнела. И повисла между нами странноватая неловкость. Как всё изменилось. Потоптался я, помолчал. В конце концов, взял эти документы и откланялся – мол, спасибо, пойду собираться. В дверях затормозил, конечно. Обернулся. Она пристально глядела мне вслед. Помахал рукой и перешел на полевой галоп. Впереди был опять крутой поворот. Господибожемой, а если бы меня не выдавили с братской дачи!
В турпутёвке было указано всё, необходимое из действий и вещей. Спортивный костюм, кеды, носки, трусы и майки. Солнечные очки, кружка-ложка, головной убор. Что-то там ещё. Поезд с Юго-Запада на Запад. Часов десять-пятнадцать пути. Описание самой турбазы и похода. Конечно, там ничего не говорилось о настроенческой сфере, хотя и гарантировались необыкновенные виды, радостные встречи и бодрость духа. Но как-то задышалось вольнее, зашевелилась диафрагма. Сердечко заработало как-то иначе. В среднее ухо что-то нашептывало нараспев о новом крутом повороте впереди…
(Буду жив – продолжение следует…)
Подписывайтесь на наши ресурсы:
Facebook: www.facebook.com/odhislit/
Telegram канал: https://t.me/lnvistnik
Почта редакции: info@lnvistnik.com.ua