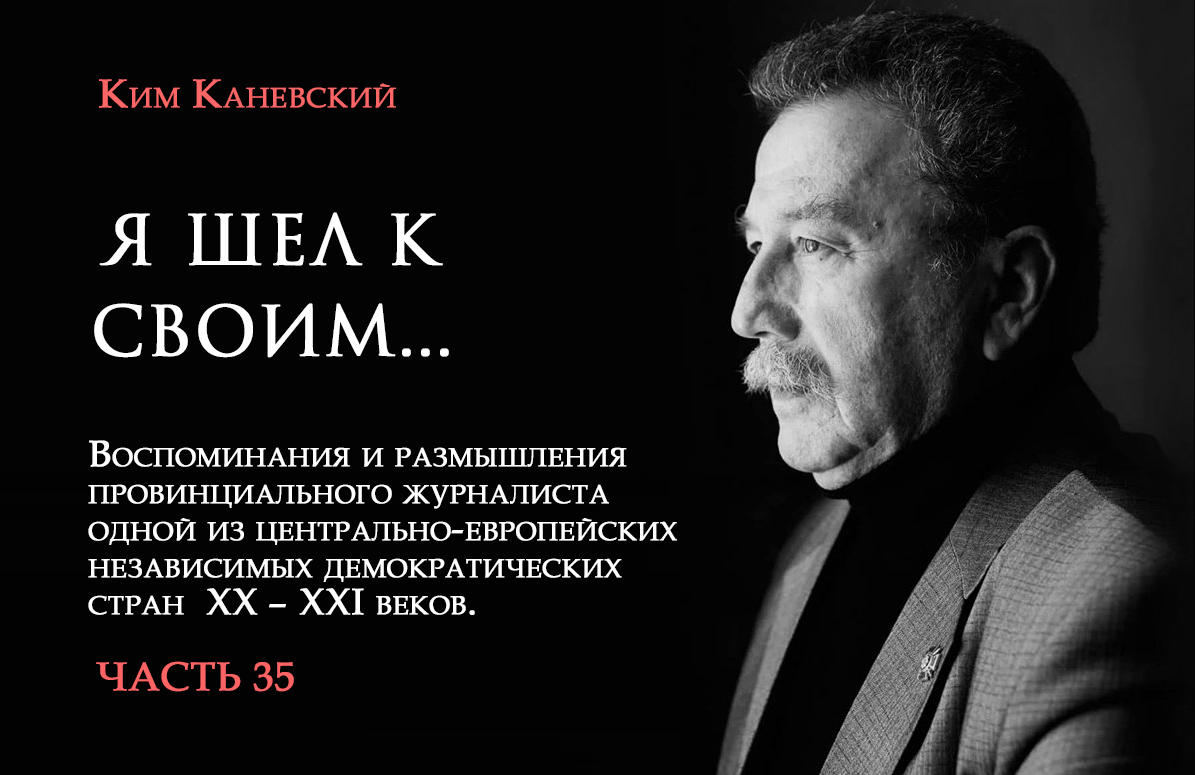В ТРЁХ КНИГАХ.
КНИГА ПЕРВАЯ
КТО СТУЧАЛСЯ В ДВЕРЬ КО МНЕ…
(Продолжение. Начало: «Перед романом», «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», «9», «10», «11», «12», «13», «14», «15», «16», «17,», «18», «19», «20», «21», «22», «23», «24», «25», «26», «27», «28», «29», «30», «31», «32», «33», «34»)
37.
…А что, может быть, Серый и прав – завяз я непутём в этих самых пятидесятых. Человек он на редкость терпеливый, но при авторском чтении глав этих вслух всё заметнее ёрзает, всё реже прерывается для уточнения. И сам чувствую какую-то болотную вязкость того времени. Погружаюсь. Засасывает. Чёртова память – всё листает и листает те страницы, так долго не листанные и не читанные. Нужно что-то пропускать мимо, пусть себе лежат в тёмной той глубине. Но как выделить необходимое? Ведь та катастрофа, с рассказа о которой начался сей роман, именно тогда предрешалась-закладывалась, там зажигался бикфордов шнур, по которому годы и годы бежал сюда милейший бенгальский огонёк. Пока не шарахнуло…
Ну, да: именно в те дни заносила судьба в анналы памяти моей неожиданные информации. Как забуду: летом на президиуме ЦК КПСС внесено предложение сметить Хрущёва с поста первого секретаря этого самого ЦК. И пересмотреть состав секретариата ЦК. Вот это номер. У взрослых на устах словечко «Раскол». И буквально тут же, через пару-тройку дней (так, по крайней мере, запомнилось) пленум ЦК отменил предложение о смещении Хрущёва. Наоборот: июльский пленум принял твёрдое решение сместить с высоких постов авторов проекта о смещении Хрущёва – Маленкова, Кагановича, Молотова и (чётко врезалась формулировка, показавшаяся странной) и примкнувшего к ним Шепилова. Кругом зашуршало царапающее словечко «Фракция».
Всю компанию вывели чохом из состава ЦК КПСС. А осенью городу Молотов шумно вернули исконное название: Пермь. Соответственно, Молотовская область стала Пермской. И город Ворошилов Приморского края был переименован в Уссурийск. На основании Указа Верховного Совета СССР о том, чтобы не присваивать предприятиям, учреждениям, заведениям и населённым пунктам имён живых-здравствующих деятелей. Правда, в той же публикации я прочёл: город Чкалов получил обратно старинное название Оренбург — тот самый, о котором читал в «Капитанской дочке» у Пушкина – про Пугачёва. И область стала Оренбургской. Что было уж совсем непонятно – ведь Чкалов никак не участвовал в антипартийной группе и фракции – умер ещё до войны. Может быть, это потому, что Валерий Павлович был любимцем Сталина? Но наша бывшая Большая Арнаутская неизменно называлась «Улица Чкалова». Было? Было…
Но было и другое. Совсем другое. Вот: первые поцелуи. Самый раз рассказать. Серый оживляется, устраивается поудобнее. А ведь это – другое. О том, что не забуду эти поцелуи никогда, почему-то подумал сразу, тогда же. Почему? Но ситуация выходила неожиданной, таинственной, сладкой. И почему-то пугающей. Трагической. Чего я испугался? Опять-таки: не-зна-ю. Царапнуло как-то по сердцу. А ведь не так начинаются и длятся рассказы о первых поцелуях. О, тяга эта и в круговорот и на дно — всячески волынить с изложением сути, поддаваться соблазну сопутствующих обстоятельств, описывать подробности! И смешное ожидание читательского сочувствия такому изнурению — при мыслях самых простых и самых же понятных делах, но имевших место в прошлом. Откуда необходимость погружения в ту, иную, давно улетучившуюся атмосферу? Необходимость. Значит, не обойти. Но как эти погружения отвлекают от сути дела, неизменной во все времена. Как увлекают и вовлекают автора в кессонную пучину ушедшего, откуда не так уж и просто вынырнуть к сути дела.
Вот, простая вещь, первые поцелуи. Какая душе разница, в начале девятнадцатого века пришли они к герою (героине), или в середине двадцатого? Всяк более не менее долго живущий землянин хранит в обширной коллекции своих восторгов и такие экземпляры. Во все времена, при всех обстоятельствах. Драгоценность или полудрагоценность. Или, нередко — подделка. В оправе роскошной или примитивной, пошлой. Или вообще без всякого там…, а просто сами по себе. Но в общем, нужно быть большим неудачником, чтобы — при традиционном обмене информациями раннеинтимного плана — подсовывать собеседникам туфту про первые поцелуи, в виду отсутствия таковых в реальной памяти. Разве дело в деталях, в обстоятельствах места-времени? Разве нельзя попросту, без них? Может быть, и можно. Тем более, в отечественной и мировой литературе именно так — и притом тонко, проникновенно изображены эти самые, первые. Вполне понимаю, в какую очередь становлюсь. И однако же дерзну, хоть и без малейшего желания сопротивляться круговоротной воронке памяти, одуряющей свистопляске давно утонувших деталей. Да-с, первые поцелуи…
Их, собственно говоря, было несколько. Восемь или десять. Двенадцать? Сначала считал зачем-то. И сбился — задержал дыхание. До того чудесны были они, эти поцелуи. Впервые в жизни я переживал подобное. И потому не мог оторваться от этого зрелища — там, за оконным стеклом комнатки во втором этаже, слева от стекол-клеточек лестничного пролета. Справа от пыльных, с войны некрашеных рам — наши окна; значит, квартиры эти отделяет лестничная площадка второго этажа. Соседи напротив. Да, но целовались не наши соседи. То есть не хозяева этой квартиры. Квартиранты. Во дворе говорят — студенты, историки, снимают у наших соседей по площадке комнату. Комнатенку, собственно. Вернее говоря, снимает она. Он ходит в гости. С какими-то там «сурьезными намереньями». Как этот оборот перевести с языка мадамов, домохозяек нашего двора, я тогда, конечно же, не знал. Предполагал нечто невеселое, строго-серьезное и унылое.
Нет, студенты были для меня и моей команды не интересны. Когда они проходили по двору к себе? Когда шли обратно? Чем занимались? Другое дело — Миша, их ровесник, возвращавшийся с работы на наших глазах — весь в стружках и опилках. Он часто приносил нам разно-всякие палки и палочки, круглые и квадратные в сечении — из них изготовлялось оружие наших побед. А эти… Одно слово: студенты. Квартиранты. Что с них возьмешь…
Но вот, вырвалось из недр, вспыхнуло в памяти: там, за окном — Он и Она. Она и Он. А тут — я, костлявый школяр и сын Победы, вдруг оторвавшийся от своей ватаги и застрявший напротив, на лестнице флигеля Шаманских. Мои меня звали, мне махали руками. Но я не слышал. Это была контузия. Впервые в жизни видел я поцелуи такого рода. А ведь, ей Богу, так и пошел бы с этого света, не поведав ему историю, подсмотренную сквозь оконное стекло! Оно, конечно, мир как-то обошелся без великого множества рассказов, сказок, повестей-романов, так и не написанных. Или написанных, но похороненных в толще бытия. Скольких землян, помазанных свыше для такого занятия, мы плохо знаем? Скольких не знаем вообще, утешаясь пошлятиной типа «Если талант — пробьется к нам и к вечности, если нет — значит, не талант». К какому из этих разрядов относятся сии строки? Но — что, если не случайно судьба вдруг вернула мне эту память и толкнула под руку?
Тогда вокруг еще дышало победной войной, принесшей вечный мир. Но победители, даже самые заслуженные и солидные, были ужасающе бедны. А их дети играли только в войну. И противников называли только немцами. В нашей доме, напомню, это — два десятка девочек и мальчиков сорок шестого — сорок седьмого годов рождения, чье явление народу определилось возвращением отцов с той самой войны. И был огромный (казалось) замкнутый двор трехэтажного дома между Большой Арнаутской и Мещанской. Ворота в конце глубочайшего подъезда открывались редко — по случаю въезда автомашины или ломовика. Дверка в этой броне запиралась вечером. Но даже в отпертом виде она была неодолима — в виду родительского табу. Таким образом, там, за этим кордоном, простиралась какая-то другая, огромная, неведомая жизнь, притягательная и страшная — как открытый космос. Выход дозволялся исключительно в школу и обратно. Остальное – только со старшими. Впрочем, для истории, которая сейчас вспыхнула в памяти и кольнула сердце, ограничимся рядом обстоятельств места и времени.
Посреди длинного двора, о чём я также вам своевременно докладывал, возлежали три горы. Они родились много позднее своих старших братьев-сестер — Казбека, Эльбруса, Эвереста и Килиманджаро. Это было осенью сорок первого, когда орлы Геринга все же вмазали парочку фугасных в западный корпус нашего дома. И руины к моему первому прозрению представляли трехглавый хребет вдоль двора. Очарованный старшим братом-альпинистом, я присвоил горам имена: пик Ленина, пик Сталина и пик Коммунизма. Последний был самым высоким, почти до окон второго этажа. Мы штурмовали эти высоты, связываясь веревкой (бельевая, украденная дома) и тыкая в твердь самодельными ледорубами, изготовленными для нас Мишей-соседом. Как и положено альпинистам, мы ковырялись в горах, собирали коллекции — всего того, что составляло существо быта довоенных наших сограждан. И что вдруг из существа перешло в вещество.
Где мне и моим знать тогда, что — в конце концов — роскошным таким рельефом мы обязаны двум войнам, проигранным в разное время Германией. И из-за разграбления ея Европой и Америкой в первую мировую. И из-за разора, мора, глада немцев. И их протеста. И одурения протестантов до того, что — пошли за бесноватым мизантропом-ефрейтором, которому сначала повезло. И из-за негодяев, управлявших Европой и Америкой, как своими поместьями и заводами. Из-за их ненависти друг к другу, каковая быстро подняла немцев с колен: в голодной, опустошенной Германии вдруг появились первоклассные танки-пушки-самолеты-корабли и их расчеты-эки-пажи в количестве, предостаточном для разрушения части нашего дома и половины континента заодно. Им помогали Те — чтобы ударили по Этим. Им помогали Эти — чтобы ударили по Тем. Бесноватый перехитрил всех, ударил и по тем, и по этим. А потом надул сам себя, издох на смитнике. И на суде в Нюрнберге, самом честном и справедливом в мире, говорилось о чем угодно, кроме того, как нонишние судьи и их наниматели все это сами и устраивали за каких-нибудь пятнадцать лет до подсмотренных мною поцелуев.
Впрочем, это упоминание и в XXI нашем веке считается некорректным. Что уж толковать о пятидесятых годах века прошлого, о которых речь. Тем более — применительно к нам, детям Победы, штурмующим пик Коммунизма на Большой Арнаутской. Знать бы мне тогда, что Нюрнбергский процесс отнюдь не только в широком смысле связан с нашим домом. И в особенности — с квартирой окном во двор (второй этаж). Окна первого этажа были частью занавешены, частью забелены. Но с вершин помещения просматривались хорошо. Особенно в сумерки, с включением электричества. И наша разведка порой приносила фантастические картины повседневности горожан-пятидесятников. В окна же второго этажа можно было заглянуть только с вершины центрального пика — пика Коммунизма. Но — не во все: крайние слева были вне сектора альпинистского наблюдения. То была моя парадная, три квартиры на первом этаже, две — на нашем, втором. И две — над нами, третьего этажа. Та, напротив наших дверей, располагала в доме мутноватой репутацией. И отнюдь не потому, что первая же комната налево (окном во двор, уже воспетым вначале) сдавалась студентам. В доме таких случаев было немало. Проживали в квартире этой некие Врандисы, люди старые, странные и демонстративно неопрятные.
Врандис-старик, лысый, с седой щетиной на пяти подбородках, плечистый, помятый, брюки наскоро заправлены в кирзовые грязные сапоги. Говорили, он где-то за городом держал корову. Такой себе, знаете ли, Тевье-молочник. Врандис-старуха, годочков девяносто на вид, с непонятной, путанной речью. Старик, впрочем, вообще помалкивал. Ну, и Врандис-сын, Гриша, тоже старый, тоже лысый, коренастый И тоже в грязных солдатских сапогах. О его сумасшествии определенно говорили все. Даже мой отец, никак не связанный с дворовыми мадамами. Отправлялся Гриша некогда в больницу, но почему-то неизменно возвращался к родным пенатам.
Изредка появлялась там некто Сима, вроде бы их дочь и сестра, абсолютно другая — интересная модная Дама, по профессии учитель английского языка, проживавшая с мужем и дочерью где-то отдельно и пользующаяся в доме уважением домохозяек. Впрочем, они ее звали Саррой. И за глаза упрекали в невнимании к родителям и брату.
Дверь на площадку у Врандисов иногда оставалась открытой подолгу. И память фиксировала длинный обшарпанный коридор, обрывки обоев, пол паркетный, но нетертый и давным-давно немытый. Да, и пёр оттуда кладбищенский какой-то запах тления, так не похожий на атмосферу в нашей квартире! Чем жили они? Коровой за городом? Студенткой в комнатке? Пенсиями? Мы этого не знали. Мы этим не интересовались. Это были страшновато-смешные люди нашего дома, едва ли следящие за событиями в мире, ЦК КПСС и за метаморфозами Хрущёва, Молотова, Кагановича иже с ними. И мы, соответственно, побаивались этих Врандисов и посмеивались над ними. Вот удивительное дело, из чего лепилась наша жизнь? Недавняя война, о которой принято было говорить, что она всех подняла, оздоровила и сплотила, на самом деле и в полном соответствии с законами логики крайне ожесточила нравы людские. Отдельно от кино и прессы шла другая, абсолютно реальная жизнь. Злая, ироническая, ерническая. И при этом нравственно-придирчивая. Чтобы ни-ни — ни Боже мой. И если киногерой целовал киногероиню, то она была его женой. Или он искал ее два часа экранного времени, то есть годы.
И вот — поцелуи за окном. Я ясно видел: Он и Она сидели на кровати, аккуратно застеленной покрывалом, с горкой подушек мал мала меньше. Он и Она держались за руки. Не обнимались, а именно держали руки друг друга. И между ними свободно могла поместиться большая пухлая подушка. Он что-то говорил. Она слушала, улыбалась. И вдруг согласно качала головой. И тогда они вставали, сокращали дистанцию. И целовались. Один раз. В губы. После чего брались за руки и садились на кровать — все на том же небольшом, но выразительном расстоянии. И он снова говорил, и она снова слушала, кивала. И все повторялось сначала. Меня они, вероятно, не видели. Или не желали видеть? Не знал и не знаю, как понятия не имел и не имею — о чем они говорили. И наконец: зачем-почему они вставали? Отчего же не целоваться, сидя на кровати? И что это за подушечный интервал, интимный разговор без объятий?
Я и не надеюсь на доверие к этому рассказу современного юного читателя — ну, поскольку таковой вообще имеется на милом нашем берегу. Но старшие, поднатужившись, могут припомнить: нравы были иными. Поцелуи на экране встречались редчайше. И только в закордонных лентах, на которые детей не впускали. Кто же из нас не помнит объявлений «Детям до 16 лет — запрещается»… Дети — до шестнадцати! Взрослые мужчины и женщины изредка ходили «под ручку». Но юноши еще не висели на девушках, еще не держались за них, как за ручку от трамвая. А на пляжах дамы носили обе части купальника, а не только нижнюю. Мы же тогда были бескрайне далеки от подобных беспокойств. Вот каска или котелок, найденные в походе по дворовым горам, сабли-винтовки, выструганные из палок, принесенных Мишей — другой разговор. Это было важно и нужно. И Миша-плотник был — молодец. Господи, да разве в этом дело! Меня контузили заоконные поцелуи: в них было что-то странное, еще неведомое. И совершенно киношное, демонстративное. А ведь они не знали, что имеется и аудитория!
Вечером я пристал к родителям — насчет Врандисов. И очень нехотя поведали они о том, что все семейство, кроме Симы, осталось в октябре сорок первого в городе. Дочь эвакуировалась со школой. Их довольно быстро забрали в лагерь, отца, мать и сына. И протянуло их сквозь зубья машин смерти, в том числе и Аушвица. Чудом выжили все трое, союзники помогли им объединиться. И их возили как свидетелей в Нюрнберг! Но использовать в суде не могли — их разум был уже безнадежно раздавлен. Квартирантка, готовясь к защите диплома по теме Нюрнберга, многократно пыталась пробиться к их памяти. Однажды это вызвало приступ ярости у отца и сына — и она спасалась в нашей квартире напротив. Высокая, стройная. Чуть полноватая. В строгом темном платье с белой вставкой на груди. Или в белой блузке и черной юбке. Бледная, но с румянцем. Спутник ее жизни запомнился меньше. Рослый, плечистый. Очень аккуратный. Какой-то правильный. Как в кино.
…По-киношному и кончили. Страшно кончили. Она, вопреки рекомендациям моего отца, опять пристала к старику с расспросами. И тот, отмалчиваясь, вдруг несколько раз ударил ее кочергой по голове. На вопль кинулся сын, ворвался в комнату. Поднял с пола кочергу и ею почему-то добил девушку. И тут же пырнул родного своего папашу в грудь кухонным ножом. Убил, конечно. Его маме сделалось дурно, упала, легла рядом. И померла. Не в добрый час оказавшийся в гостях у студентки молодой человек выскочил в коридор. И немедленно был сражен тем же кухонным тесаком. В момент появились во дворе и в доме скорая помощь, милиция и почему-то Миша-плотник, расквасивший Врандису-сыну помидор носа и ловко скрутивший сумасшедшего убийцу в три погибели. Все скользили, кровищи было – как на бойне.
И все кончилось, исчезло. Нас, прилетевших со двора, конечно, не впустили. Потом всех увезли. Разговоров в доме хватило надолго. Мадамы, и до того не красавицы, теперь с перекошенными лицами, жужжали во дворе на своём тарабарском языке. А на лестничной нашей площадке появились в свой час известковые и красочные ляпы, в той квартире пошел ремонт. И поселилась там Сима с семейством: солидный, в шляпе, муж и прелестная дочка с бантами. Двери у них редко оставались открытыми. Но иногда мы видели изумительный блеск паркета в прихожей. Да и саму дверь снаружи оббили кровельным железом, расписанным под орех. Я с интересом наблюдал за манипуляциями маляра: он сперва выкрасил дверь светло-желтой краской, а когда просохла — темно-коричневой. И специальной гребенкой водил по двери, зубьями снимал темную. Светлые полоски должны были обозначать фактуру дерева. Дешевка, конечно, жуткая. Но по тем, по пятидесятым, это всем домом признавалось современным и изящным. Во всяком случае, роспись двери нас уже занимала не меньше, чем недавняя катастрофа в коридоре за ними.
Да, в ходе того ремонта из квартиры выбросили в угол двора у нашей парадной много всякого мусора. И мы, опытные дворовые альпинисты и кладоискатели, ковырялись в этой обновке, утаскивали из кучи всякое-разное. Ржавый подстаканник. Подшивка «Огонька» за 1941 год. Ремень без пряжки. Мне тогда досталась папка рукописей и фотографий, очевидно – имущество невинно убиенной студентки. Всё – про зверства фашистов в нашем городе и области. И суд в немецком городе Нюрнберге. Как я со временем понял, это были материалы так и не защищённой дипломной работы по Нюрнбергскому процессу над воротилами Третьего рейха, разгромленного вдребезги, но успевшего наломать дров в мире, в Европе, в нашей стране, в нашем городе. И даже непосредственно в нашем дворе и доме.
Подписывайтесь на наши ресурсы:
Facebook: www.facebook.com/odhislit/
Telegram канал: https://t.me/lnvistnik
Почта редакции: info@lnvistnik.com.ua