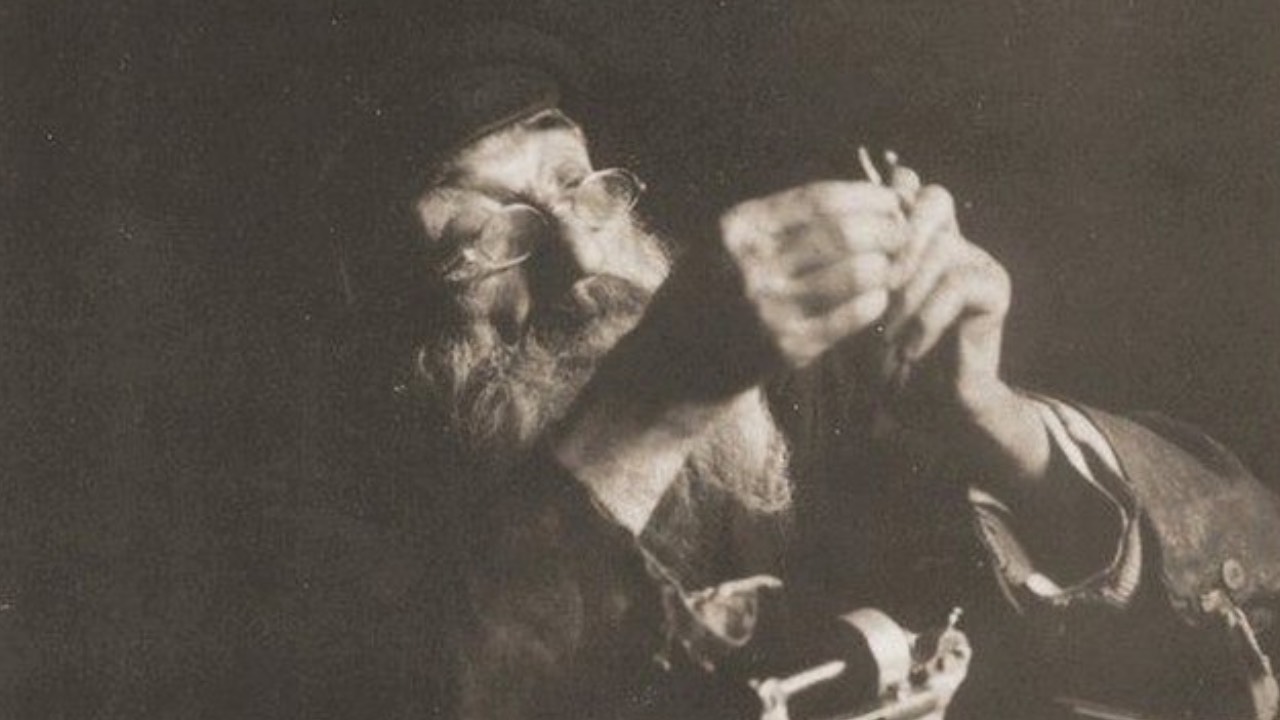ОТ РЕДАКЦИИ. Читатель нашего журнала уже хорошо знаком с автором следующей публикации. Доктор химических наук Борис Филановский — крупный специалист в сфере электрохимии, работает в Тель-Авивском университете Израиля. Напомним: коренной ленинградец, в детстве пережил блокадную катастрофу и, как говорится, вышел в люди. Да ещё и в какие люди! После средней школы закончил Ленинградский химико-фармацевтический институт (ЛХФИ), а после защитил кандидатскую (что тоже было, мягко говоря, не просто) в знаменитейшем Ленинградском Технологическом институте (ЛТИ), на кафедре физхимии. Тот самый, основанный в 1828 году и с которым связаны такие имена в науке, как Д. И. Менделеев, Ф.Ф. Бельштейн, В.К. Зворыкин., А.Ф. А.Ф. Иоффе, Д.П. Коновалов, Ю.Н. Кукушкин, А.С. Зарайский, С.В. Лебедев, А.А. Петров и другие. Защитил диссертацию. Много работал в Научно-исследовательском институте научных приборов. Лаборатория Бориса Филановского в Санкт-Петербурге впервые в мире и в содружестве с Институтом Электрохимии имени Фрумкина Академии Наук СССР разработала уникальный Кольцо-диск (Ring-Disc). Сама идея такого электрода была выдвинута академиками А.Н. Фрумкиным и В.А. Левичем. А все научно-исследовательские действа и конструирование биопотенциостата проводились лабораторией Бориса Филановского.
За это время он и его коллеги опубликовали по лаборатории опубликовали около семидесяти работ в ведущих журналах Академиии Наук СССР. При его соавторстве была издана книга по химии «Контактная кондуктометрия» — авторы: М.С. Грилихес, Б.К. Филановский, (Л., Изд-во «Химия», 1980). Опубликована, также, статья в Советской химической энциклопедии (Сов.хим.энцикл., т.2. М. 1990). Борис Филановский был также членом региональной группы Комиссии электрохимических Инструментов Академии Наук СССР (1985-1990). Такова, если коротко, первая часть его биографии.
Между ней и следующей частями, конечно же, имелись некоторые пространство и время, достойные отдельного повествования. Здесь же и пока да будет вам известно, что в дальнейшем Борис Филановский работал в Национальной физической лаборатории Израиля (Иерусалим), которая фокусируется на точных измерениях. Например, их работа по измерению pH легла в основу нового израильского стандарта pH.
Далее работал в американо-израильской стартап-компании «Медис-Эль», в которой сосредоточились на применении им и его коллегами электрохимических методов в новом типе топливных элементов. И параллельно вели научно-исследовательскую работу по обнаружению следов взрывчатых веществ в воздухе.
Борис Филановский и его коллеги получили патенты США на топливный элемент и на их новый метод обнаружения следов различных типов взрывчатых веществ в одном образце. После запуска этого проекта Борис Филановский вернулся к академической работе в Тель-Авивском университете (химия). В это время он принимал участие в научно-исследовательской работе по созданию перспективного топливного элемента New Energetics Fuel cell на основе недорогих катализаторов из неблагородных металлов. Он и его коллеги установили, что наночастицы Cu демонстрируют высокий каталитический эффект. Борис и его коллеги показали, что наночастицы Cu являются более мощным катализатором по сравнению с классической Pt. В результате совместно с коллегами он получил два патента США на их систему.
В то же время Борис вместе с коллегами продолжает работу над детектором взрывчатых веществ. Они разработали новый электродный материал и получили на него новый патент США. На данный момент учёный со своими коллегами работает над новым применением их открытий в электрохимии для получения H2-энергии. Фактически работа основана на их предыдущем опыте в этой области. Борис Филановский совместно с коллегами опубликовал несколько статей о новых результатах в области H2-энергетики в научных журналах самого высокого уровня. Они продолжают работу по применению их электрохимических методов к различным задачам, включая новые и неожиданные вызовы. Представляем рассказ Бориса Филановского, написанный в мемуарном жанре. Вот уж, как говорится, есть что вспомнить…
Дыхание Чейн-Стокса
1.
На Вознесенском проспекте жил седоватый доктор Григорий Михайлович — совсем недалеко от дома известного цирюльника Ивана Яковлевича. Почти в том же доме, где (не по чьей-нибудь злой воле, упаси боже) исчезает нос с лица майора Ковалёва. Так что местечко то ещё, будьте любезны.

выдающийся и всемирноизвестный ученый-энциклопедист, профессор, доктор медицины: невропатолог, психиатр, морфолог, физиолог нервной системы, психолог
Не думайте, что старина Михайлович был такого уж исключительно робкого десятка. Он учился в Первом медицинском у самого Бехтерева. И неоднократно бывал изгнан с лекций маститого академика. Ну ни за что. Правда ни за что. Он просто изображал лектора. И так похоже, что даже серьёзные медицинские студенты (стараясь не смотреть на почтенного профессора) невольно прыскали. И частенько просто выскакивали из аудитории. И смущённо пробирались обратно. Ведь смех-смехом, а нельзя пропускать такие лекции. Шутишь, из первых рук. Тут даже не знания тебе дают, а подход. Подход, которому ни у кого другого не научишься.
Бехтерев хотя и ворчал, но никак не против был маленькой разрядки. Даже иногда сам хохотал. И заразительно. Заслужить от большого учёного фразу: «Ну, вы, Гриша, просто артист» не так-то просто, как думают некоторые граждане. Вроде нас с вами. Академик иногда добавлял: «Врач и должен быть артистом. Гуманная профессия. Помочь часто мы не можем, так хоть утешить».
Академик ценил свои слова. Хотя, как гласит легенда, один раз не сдержался. В Кремле, куда он был вызван на консультацию к одному высокопоставленному пациенту (злые языки говорили, что к Самому), академика попросили высказаться о диагнозе. Речь шла о ментальных проблемах. Он осторожно (с необходимыми оговорками) сообщил, что речь может идти о параноидальном синдроме.
На следующий день в «Правде» появился некролог: «…безвременно ушёл от нас великий русский учёный…Вся страна скорбит о выдающемся медике, гражданине и человеке ….» 1927 год. Диагноз был – пищевое отравление. Это было ещё задолго до убийства Кирова.
2.
Так вот. С 1927 года прошло много времени. Зашумели сталинские пятилетки. Доктор работал в 1-м Медицинском (оставили при кафедре). Всё бы хорошо, но тут тебе война проклятая. Григорий Михайлович воевал на Ленинградском фронте. Служил хирургом в госпитале. Вернулся майором мед службы. Ранен не был, одна тяжёлая контузия, еле выкарабкался. Словом, судьба обычная для тех лет. Я бы сказал – собачьих, если бы у собак были танки «Тигр» и «Мессеры» (Ме-109).
В тот день, девятого мая, не сильно-то пьющий доктор тоже хватил лишку. Жизнь налаживалась. Карточки в 47-ом (или всё же в 48-м) отменили. В Москве и Ленинграде снабжение стало будь здоров. В других местах что было — того не знаю. Не видел. Молод ещё был. Восьмой класс. Но цены снижали. На всё. Как писали в газете «Правда», цены на баяны были снижены на 30%. И вот наступает 1953 год. Январь. Не всё так радужно. Как известно, классовая борьба по мере построения самого справедливого бесклассового общества не стихает. Враг не дремлет. Происки врагов проявляются в самых неожиданных местах. Даже в Кремле. Казалось бы, Кремль — туда уж не может прокрасться никакой враг. Такой подбор кадров. Такие проверки. А уж бдительность. Но и там враги. И сколько. Добро бы, один какой затесался. В хозблоке, допустим. Или в подсобке. Ан нет. По радио (такая была у нас в каждой коммуналке чёрная тарелка) объявили, что группа Кремлёвских медицинских светил, допущенных в святыя-святых — к лечению наших членов ЦК — оказалась бандой убийц. Так все прямо и назывались — убийцы в белых халатах.
Конечно, так дело оставлять было нельзя. Не пускать же на самотёк. И в коммуналке на Майорова (бывший, да и будущий Вознесенский проспект), где, согласно прописке, проживал не такой уж старый доктор Григорий Михайлович, были приняты меры. Коммуналка была не очень, всего 7 семей. За дело взялся квартуполномоченный Василий Петрович. Человек заслуженный, фронтовик, слесарь не то пятого, а может даже и шестого разряда. Гегемон. Ему и карты в руки.
Он так культурно так подходит к седоватому доктору и дипломатически говорит:
«Ты бы поаккуратнее Григорий с пилюлями (да и каплями), а то люди жалуются. Ты-то хоть и еврей, но мужик хороший. Однако, Михалыч, имей в виду. Ваши-то что творят, в самом Кремле людей травят. И каких людей. Вы бы, Григорий Михайлович, поостереглись. А то ведь неровен час чего случится. Народ у нас терпеливый. Но ведь у всякого терпения предел имеется. То-то же».
Мы жили по соседству — за углом, на Плеханова (ныне опять Казанская). Я-то учился в восьмом классе. Тоже, как говорится, память осталась. Вспомнишь – так вздрогнешь. Никак не забыть эти чёрные газеты на улице (тогда газету «Правда» приклеивали на такие доски. Из фанеры, всё как полагается. На стенку. Чтоб люди читали. Развивались). А январь. Мороз. Люди молча читают. Про врачей-убийц в белых халатах. И молчат. Ни звука. Молча читают. Никто даже рукой не махнёт. (Это такое лирическое отступление – типа, «Как хороши, как свежи были розы…»).
У нас в классе учился сын доктора Григория. Марик. Славный парень, спортсмен. Он как-то запинаясь рассказал мне про тот случай с отцом, когда мы вместе прогуливали урок физкультуры.
И тут, на тебе, наступает 5 марта (или всё-таки 8-е, память подводит). И сам Левитан, таким цельнометаллическим голосом, объявляет про дыхание Чейн-Стокса. У товарища Сталина такое спецдыхание. Ну, прихворнул человек, ну, появился у него дыхание, с кем не бывает. И всё-таки на всякий пожарный коммуналка отправляет делегацию в составе. По самой правде никакого состава не было. Фронтовик Василий пошел к своему фронтовику майору мед службы Григорию (хоть и еврей, но ведь доктор, должен понимать) узнать, что за зверь такой этот Чейнстокс.
И узнал. И возмутился. И въехал между глаз. Седенькому-то доктору. Хотя в душе-то сам понимал, что сосед здесь не при чём. А доктор-то тоже хорош. Вместо чтоб дать сдачи, он так печально что ли говорит: «Ну, что ты, Вася, ведь вместе воевали (Вася тоже хлебнул горюшка на Ленинградском). Ты что, тоже думаешь, что я виноват в этом дыхании?». И тут Вася поломался. «Ну, извини, Михалыч, но ведь горе-то какое, всесоюзное, одним словом». И Василий задумался. А в голове стучало.
«Никак в голове не укладывается. Как это может быть. Вождь всего прогрессивного человечества. Товарищ Сталин. И вдруг такое. Агония. Задыхается. И никакой надежды. Добро бы кто другой. К примеру нарком какой-нибудь мясомолочной промышленности. Или даже сам (страшно сказать) маршал Ворошилов». «Да это всё они, космополисты проклятые», – мелькало в голове фронтовика, слесаря пятого разряда, квартуполномоченного Василия Петровича. «Мутят воду где ни попало».
А в голове засело — «А может… и не они вовсе. Просто срок пришёл. Хоть ты вождь самый-самый, но ведь человек. Из мяса и костей. Как полагается». Хоть Василий и гнал такие предательские мыслишки, но лезли проклятые, не отвяжешься.
«Ведь как мы хорошо жили. Мирно. Строили первое в мире бесклассовое общество рабочих и крестьян. Покончили с эксплуатацией человека человеком. Боролись с врагами народа. Без всяких-яких. А тут на тебе. Война. Лучший друг предал нас. Ну и Польша тут случилась. Взбунтовались, одним словом, поляки. Мы честно союзнику помогли. Ведь пакт с ними заключили. Аккурат в 39-том. А эти падлы чего сделали. Напали, суки, главное без объявления войны. Внезапно. Коварно. На лучшего друга напали, гады. Да, вначале мы отступали. Заманивали врага. Как Кутузов. И даже лучше. Заманили аж до самой Москвы, до Волги. До Сталинграда. Но потом товарищ Сталин вёл нас от победы к победе. Мы подняли знамя победы над Рейхстагом – Егоров, Кантария, (и ещё какой-то боец, забыл фамилию). И вдруг такое. Как же мы жить-то будем, без отца родного. Ведь ничего не предвещало. Хоть бы болезнь какая-никакая была у товарища Сталина. Всё легче. Теперь-то уж точно пропадём».
Не один фронтовик Василий Петрович был убит горем. Так все и думали. Даже мой сосед, девятиклассник Нёмка Магид сказал мне (хотя, строго говоря и сам он был безродным космополитом) – «Борис, как же мы теперь без него жить будем?». Идея пропасть без отца родного носилась в воздухе.
Поразительным образом всё, как говорится, устаканилось. Доктору (по блату) вставили зуб вместо выбитого при коммунальном инциденте у Чейнстокса. Никто не пропал. Даже в нашем гастрономе на углу Плеханова, кажется, не очень-то заметили потерю вождя. Продуктов не убавилось (хоть и не прибавилось). Народ удивлялся. После такой-то Всесоюзной катастрофы. Но люди быстро привыкают. Ко всему. К войне ведь привыкли
Послесловие (впрочем, как говорится – ни к селу, ни к городу)
Мы с одноклассником Юркой Фрадкиным отправились на похороны товарища Сталина. Это не был такой уж чересчур патриотизм. Просто мы трезво рассудили, что за прогулы нам ничего не будет. Хотя дисциплина у нас в школе на Сенной в те поры была будь здоров. Мы собирались до Москвы добираться на электричках. С пересадками. Тоже ведь понимали.
Нам не удалось. Офицерский патруль (не до контролёров было) погнал нас из электрички, даже до Тосно не доехали. Когда мы в школу приползли (благо от Московского близко – трамваи ещё по Невскому ходили), нас похвалил за верность Сталину завуч Митрофан Иванович Бязь (он всю войну протопал связистом, дослужился до капитана). Кажется, хвалил с отвращением. У него самого родной брат был враг народа. Статья 58. Но это совсем уж другая история.
Автор: Борис Филановский
***
Другие материалы автора:
Наполеон и наука
На путях науки… Два гения — две судьбы
Подписывайтесь на наши ресурсы:
Facebook: www.facebook.com/odhislit/
Telegram канал: https://t.me/lnvistnik
Почта редакции: info@lnvistnik.com.ua